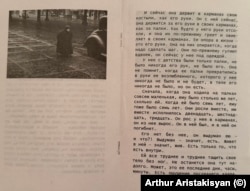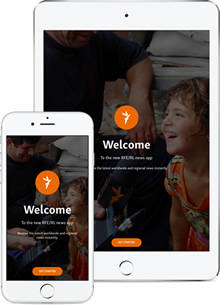Доктор социологии, председательница правления берлинской НКО Center for Independent Social Research Елена Штайн работает с гражданским обществом в России. Она утверждает, что за три года войны оно пересобралось заново; иногда действуя под маской “неполитичности”, гражданское общество овладело новыми практиками сопротивления.
Елена Штайн ответила на вопросы Радио Свобода.
– Вы изучаете российское гражданское общество после 2022 года. Мы сразу оговорим, что подразумеваем под этим определением не только оппозиционные структуры, которые в основном эмигрировали, но прежде всего неполитические – волонтерские, образовательные, градозащитные инициативы. Какие трансформации с ними произошли после 24 февраля?
– Как ни парадоксально, но 2022 год не привнес чего-то особенно нового в положение гражданского общества в России. Ситуация со свободой действия последовательно ухудшалась, начиная с 2012 года. Тем не менее его структуры продолжали работать внутри страны – с активистами, гражданскими инициативами, пытались подстраиваться под ситуацию; пытались, что называется, хакнуть систему при помощи нейминга, то есть переименования. Вот пример: в нулевые годы, как известно, были популярны совместные проекты с Еврокомиссией, и тогда они назывались "программами политического образования". В 2010-е годы это стало неудобно российскому государству – и они стали называться "программами неформального образования". Когда новый закон в России стал требовать для любой международной кооперации в области образования получать разрешение от министерства образования, поле свобод еще сузилось. Сейчас, постфактум, понятно, что на эти ограничения в свое время нужно было реагировать более жестко; но тогда мы – я имею в виду и себя – предпочли перейти к практике уловок. Тогда нам казалось, что если политическое образование в России невозможно, то остается, условно, урбанистика и городской активизм, и мы будем говорить о том же, но через городские проблемы. Придумывали постоянно такие вот ходы, многоходовочки – и они как будто бы давали возможность оставаться и работать в России. Мы будем вести себя чуть хитрее, – думали мы тогда,– но все равно будем нести наши ценности и приближать светлое демократическое завтра. Честно признаюсь, я и сама верила, что это возможно. Наверное 2020 год, протест в Беларуси и его подавление стали точкой невозврата; мы увидели новую степень жестокости репрессивных механизмов действующей власти. Все это мысленно экстраполировалось на то, что может произойти в России, – и через два года все то же самое действительно случилось.
Утром 24-го я узнала, что трое из пяти моих бывших партнеров поддерживают войну
…2022 год коснулся всех лично. Я за неделю до полномасштабного вторжения оказалась в России; правда, пролежала с ковидом в одном уральском городе. 24 февраля стало шоковым событием еще и потому, что я видела, как на моих глазах распадается то самое гражданское общество – где, как мне казалось, сложились прочные связи. Утром 24-го я узнала, что трое из пяти моих бывших партнеров поддерживают войну. А один из них, скорее всего, был приставленным ко мне сотрудником ФСБ. И это стало дополнительным шоком ко всему, что произошло за эти сутки. Шок, а затем дезориентация – слова, которыми можно описать тогдашнюю ситуацию. Но это не значит, что никто ничего не делал. Я думаю, что 2022 год был началом глобального процесса пересборки существующих гражданских инициатив разного уровня. Во многом этот процесс связан с массовой политической эмиграцией. Большой процент людей, которые до 24 февраля были вовлечены в политические, гуманитарные, гражданские и прочие проекты, уехали. Этот процесс отъезда в широком смысле длился аж до середины 2023 года. И если сегодня посмотреть на ландшафт гражданских инициатив в России, с которыми лично я работала, то многие из них если не распались, то полностью поменяли свой основной состав.
2022 год значим для гражданского самосознания
С одной стороны, 2022 год показал высокую мобильность сообществ. Внутри страны смогли быстро сорганизоваться такие инициативы, как, например, помощь украинским беженцам в РФ. За пределами России появились организации, помогающие избежать мобилизации и поддерживающие дезертиров. Кроме того, подвергся изменениям сектор гуманитарных и культурных инициатив, протестных экологических движений. У них тоже в 2022 году произошла пересборка. Или даже перезапуск. Пришли новые люди. Они начали создавать сети по-новому. В этом смысле 2022 год значим для гражданского самосознания. С одной стороны, казалось, что все рассыпается на мелкие кусочки, разбивается. С другой, общая встряска привела к децентрализации команд, людей; эта пересборка в итоге помогла гражданскому обществу выжить.
Елена Штайн переехала из России в Германию в 2000 году. Окончила Университет Мангейма, где защитила диссертацию на тему "Воинская обязанность и кризис гражданственности в России". С 2013 по 2017 год работала в НКО "Немецко-российский обмен", где руководила проектами по поддержке гражданского общества в России. В 2015 году вместе с коллегами она основала НКО Center for Independent Social Research e.V. в Берлине. Его цель – укрепление связей между гражданскими обществами России и Европы, а также проекты на темы урбанистики, миграции и интеграции. С 2022 года Елена активно участвует в антивоенном движении и является одной из участниц Платформы антивоенных инициатив.
– Остались работать в России те структуры, которым по существующим законам опасаться вроде бы нечего. Это волонтерская деятельность, помощь бездомным, помощь в образовании. Политически они были нейтральными – но примерно с 2012 года, с наводнения в Крымске, после которого возникло массовое волонтерство в России – они считались мягким подбрюшьем гражданского общества, символизировали потенциал его роста, взросления, самосознания. Что случилось с этим сегментом?
– Там нет однозначной картины. В начале 2022 года многие из этих инициатив публично высказались “в поддержку СВО”, подписали письма. Список этих людей и организаций достаточно большой. Некоторые боялись репрессий, а также действительно считали себя "вне политики". Другие вынуждены были это сделать, потому что не хотели останавливать свою деятельность. К тому же многие из них до этого существовали за счет президентских грантов и госпрограмм. Часть из этих инициатив радикализировалась в политическом плане – стали провластными патриотами. Наконец, есть те, кто занимает антивоенную позицию, но частным образом. Возьмем, например, комьюнити урбанистов и городских активистов. Они попадают в то самое нейтральное, как вы называете, поле. Свою профессиональную или активистскую деятельность они направляют на конкретные человеческие судьбы, или на защиту прав животных, на обустройство малых городов. Но для всего этого им приходится договариваться с местной администрацией.
Люди, которые выходят на пикеты против сноса и застройки – в 2024 году – они, на мой взгляд, скорее за добро, чем зло
Можно ли их считать гражданским обществом?.. Это спорный вопрос. Если мы посмотрим на это с антивоенной позиции, то, наверное, нет. Любая интеракция с локальной администрацией, даже на низовом уровне, делает тебя как бы соучастником агрессии. Если мы посмотрим это с точки зрения европейской политики, то тоже нет: это не то гражданское общество, которое европейцам хотелось бы иметь в России. Я тут стараюсь быть максимально честной в оценках. Я не хочу играть в "не все так однозначно", но я бы предложила по отношению к таким инициативам более дифференцированный подход. Предположим, в городе N собираются снести особняк ХIХ века и вырубить вековой парк вокруг, чтобы построить там нечто ужасное, например новый военкомат. Люди, которые выходят на пикеты против сноса и застройки – в 2024 году – они, на мой взгляд, скорее за добро, чем зло…
– …Тут для проверки используют простой метод; достаточно задаться вопросом: "Может ли это остановить войну?"
– …Гражданское общество не обязано своей деятельностью останавливать войны.
Мы бы все очень хотели, чтобы любой шаг и любое действие, которое мы производим, вели к остановке войны. Но мы должны быть реалистами. Протест против сноса памятника не может остановить войну; но опыт протеста, опыт высказывания недовольства, даже в репрессивном государстве, мне лично дает надежду.
Я продолжаю верить в то, что люди, поначалу боровшиеся за спасение дерева, во второй раз выйдут на пикет против повышения ставок ипотеки; а в третий раз они, может быть, выйдут уже за то, что действительно может остановить войну. Мы не рождаемся политическими существами, мы ими становимся – для этого мы должны социализироваться в политическом действии. В такой стране, как Россия, особенно сейчас, очень тяжело быть политически активным, если ты не за путинский режим. И любой опыт социализации в форме протестной деятельности сам по себе очень важен. Так мы наращиваем наш политический опыт – и в долгосрочной перспективе становится понятна ценность и таких движений, и таких организаций. Их "нейтральность" может меня лично раздражать, и может не нравиться европейскому обществу. Но, если мы хотим иметь фундамент, пусть и зыбкий, на котором мы будем строить любые модели "России будущего", нам нужны эти люди. Люди с активной гражданской позицией, которая может формироваться через множество активностей, в том числе и через неполитизированные действия.
Помощь бездомным собакам вызвала активность простых граждан. Появился опыт солидарности
Известный пример – с протестом жен мобилизованных. Когда они только появились, сколько было снобизма в нашей активистской среде! С каким апломбом мы говорили о них, с каким высокомерием. Сейчас все более-менее понимают, что это важно, но в самом начале их мало кто поддерживал. Существуют разные возможности расшатывания системы. Протест жен мобилизованных – одна из них. Я не хочу идеализировать жен мобилизованных. Но их протест вносит сомнение – и эти зерна сомнения в милитаризированном обществе бесспорно важны. Или вот, скажем, пример из другой области: защита прав животных. Экстренная помощь бездомным собакам, которых должны были убить местные власти в одном из регионов, вызвала большую активность простых граждан. Многих животных удалось быстро пристроить. Не то чтобы они тем самым решили проблему, но появился опыт кооперации, солидарности. Если ты проживаешь этот опыт, то во второй раз организоваться будет проще. Конечно, не любой протест приемлем даже с этой точки зрения. У меня, например, тоже есть свои границы: пригожинский мятеж для меня – это не расшатывание системы, а призыв к гражданской войне. И я, как человек из гражданского поля, не могу это поддерживать.
– Есть две точки зрения на состояние гражданского общества в России. Есть позиция политолога Кирилла Рогова или социолога Александра Бикбова: они считают, что положение с гражданским обществом в России сегодня лучше, чем в 1985 году. Тогда люди вообще не знали, что такое гражданское общество, а теперь миллионы в это вовлечены, у них есть опыт, сложились политические инстинкты. Это позитивный взгляд. Негативный высказывается политологами Александром Морозовым, Андреем Колесниковым: весь активистский, городской класс, на который было столько надежд, с началом войны легко встроился в путинскую милитаристскую систему. Война оказалась более мощным объединяющим, цементирующим фактором, чем демократические ценности. Чего вы видите тут больше – плюсов или минусов?
– Плюс, кстати, еще и в том, что прогресс на нашей стороне. Одно дело – слушать на кухне самосделанное радио и перепечатывать от руки страницы из тамиздата; другое – распространять относительно безопасным и быстрым способом общественно полезную информацию, с помощью соцсетей…
Но я не соглашусь с тезисом о том, что бывший городской класс "хорошо устроился" в условиях войны. Просто мы часто смешиваем в одно политическую оппозицию и гражданское общество. Повторюсь: я не хочу идеализировать гражданское общество. Те, о ком мы говорим, – это, возможно, совсем небольшой процент людей, такая условная “гомеопатическая доза”. Те, кого не видит даже оппозиция за пределами России. Политическая оппозиция научилась сегодня артикулировать свои требования, излагать публично программу. А те гражданские инициативы, о которых я говорю, привыкли делать, а не говорить. А сейчас они тем более не могут рассказать о себе публично, потому что сейчас большая публичность будет для них означать окончание их деятельности. Если не тюрьму. Поэтому нам очень тяжело увидеть общую картинку гражданского общества в России.
Люди продолжают действовать, не имея возможности рассказать об этом
Из-за этого молчания в представлении политической оппозиции создается перекос – картинка жирующего и прекраснодушного путинского бюргера... Представление о том, что это общество – "спящее". Вот, они помогли собачкам – "и что, война от этого остановится?" Не остановится, конечно. И возможно, в процентном отношении все так. Но мне это кажется нечестной игрой по отношению к существующим и действующим активистам в России. Если бы мы более дифференцированно видели наше сообщество, если бы умели разделять политических активистов и гражданских – у нас появилась бы более полная картина. Тогда и вопросов "что происходит внутри России?" было бы меньше. Люди продолжают действовать. Тем самым расширяя, мультиплицируя свое знание, передавая его дальше. Но не имея возможности рассказать об этом. Чем мы, остающиеся на свободе, можем им помочь? Мы можем это сказать за них. Хотя бы в очень завуалированной, зашифрованной форме, когда даже не город, а только регион можно называть вслух.
Опять же про разницу между политическим и неполитическим. Есть такая мощная инициатива, которая организовалась в 2022 году – помощь украинским беженцам, которые оказались на территории РФ. Волонтеры помогают им выехать за границу. Они позиционируют себя как горизонтальное, сетевое и неполитизированное сообщество. Для меня же, например, как наблюдателя со стороны, то, что они делают, – ярчайший акт неповиновения российскому режиму, самое что ни на есть политическое действие. И это не такое уж редкое явление в гражданской среде, когда те, кто занимаются, по сути, политическим действием, отказываются признавать это. Внутри там есть люди с разными взглядами; но при этом их всех мотивируют сильные чувства: от ненависти до разочарования, от страха до желания делать назло. Для меня это палитра политических эмоций. Политизация происходит независимо от того, хочешь ты этого или нет. Когда какая-то проблема становится для тебя слишком личной, это неизбежно приводит к политизации. Но заявлять об этом открыто сегодня – значит повредить себе и тем, кому помогаешь. Поэтому большинство таких инициатив организовываются по неполитическим принципам.
Собирать единомышленников сегодня очень сложно. Ощущение изоляции превалирует, мобильность снижается
С 2022 года в одном из городов Сибири проводится фестиваль, который вырос из кружка для родителей детей с ментальными особенностями, независимого книжного магазина и локального сообщества горожан. Для меня – это смелая форма выражения публичного антивоенного мнения через воркшопы, выставки, дискуссии, лекции. Собирать единомышленников сегодня очень сложно. В России ощущение изоляции превалирует, мобильность снижается. Заботясь о безопасности, очень многие остаются в закрытых сообществах. Ездить, как раньше, с одной летней школы на другую возможности больше нет. У людей нет ресурсов для таких поездок и есть страх, что за ними следят. Атомизация даже внутри гражданских сообществ налицо. Поэтому, возможно, сейчас даже не очень важна сетевая история; сетевой принцип объединения – это то, что делает их сегодня уязвимыми. Можно взращивать внутри регионов, в больших и малых городах некие, назовем это так, хабы, точки, куда люди при желании могут обратиться за помощью.
– Появились новые формы протеста. Вот, условно, люди идут на концерт исполнителя, о чьих взглядах известно, что они антивоенные. И сам факт похода на этот концерт уже является с точки зрения зрителей антивоенным жестом. И все в зале объединены этим новым подмигиванием, этим эзоповым молчанием. Но можно ли вообще это назвать протестом? И можно ли в таком случае говорить о гражданском сопротивлении?
– В 2022 году, в первые месяцы войны, признаюсь, меня и саму раздражал этот эзопов язык. И мне казалось – просто потому, что я сама живу в благополучном и безопасном месте, – что подмигивание и заигрывание, весь этот весь нейминг со звездочками – это не то, что важно сейчас. Что сегодня нужно встать и громко кричать. Я думала: если бы все эти мужчины, которые бегут от мобилизации, стоят в пробках на границе Грузии, если бы они остались в своих городах, и в каждом городе вышло по 10 тысяч мужчин – никакой полиции бы не хватило. И это на что-то бы точно повлияло. Сейчас, по прошествии уже почти трех лет, я пришла к мысли, что не каждый из нас должен быть героем. Героев мало, вообще-то. Во-вторых, есть разные функции и у этого подмигивания, как вы говорите. Есть подмигивание на уровне эмоциональной теплоты: вместе нам лучше и спокойнее; а бывает, что подмигивание играет роль маркировки для дальнейшего действия. Я не могу судить, насколько важно то, что случается, предположим, на этом концерте. Но если мы говорим про какие-то небольшие города, это очень важно: однажды прийти в какое-то место, где тебе со всех сторон подмигивают, – это может придать сил для того, чтобы что-то запустить или к чему-то присоединиться. И это важно именно для того, чтобы общество не провалилось опять в сугубо диссидентские практики – спасти только самих себя; а чтобы у них был потенциал роста для коллективных действий. Например, если те учителя, которые ведут "Уроки о важном" немного не так, как требует этого государство, подмигивают друг другу, понимая, что они не одни, – это очень важно. Их в итоге станет двое, трое, пятеро. Если учесть, что на каждого из них приходится по тридцать человек в классе, это подмигивание начинает иметь значение.
– Было бы несправедливо, поговорив о так называемых "наших" и нейтральных сообществах, не рассказать о том, как устроен провластный сегмент гражданского общества. Вы занимаетесь в том числе и их изучением. В частности, вы упоминали недавний провоенный фестиваль "Стальное кружево Урала". Произносишь одно это название – и ничего уже объяснять не надо, казалось бы.
Популярны форматы показов мод, в которых участвуют жены и родственники мобилизованных
– Да, с одной стороны, объяснять тут нечего. Все с ними ясно. И поэтому мы даже не смотрим в ту сторону. Обозначаем все это словом "дно". С другой стороны, грош цена всем нашим моделям будущего, если мы не знаем, что делать с этими людьми. А ведь это тоже российское общество, абсолютно легитимное. Причем это вовсе не значит, что все они за войну; скорее всего, многие из них просто приспосабливаются к режиму. Люди, которых в принципе – пока не пришли к ним в дом – ничего особо не беспокоит. Я иногда занимаюсь таким вот обзором внутрироссийской повестки, иронично называя его “околосоциологическим guilty pleasure”: я отслеживаю, к примеру, программы российских домов культуры, программы Дней города… Читаю городские паблики во "Вконтакте". Я обычно беру те города, в которых когда-то работала. Это в основном не Москва и не Петербург, а Сибирь, Урал, Ленинградская область, Заполярье. Мне очень интересно смотреть, что там сегодня происходит. То, что я фиксирую сегодня как главную тенденцию, – это рост политизации общества. Это лоялистская, провластная политизация, естественно. Она – прямой результат работающей пропаганды, не только телевизора, но и программ воспитания детских садов, школ. Дети хотят написать письмо на фронт не потому, что их заставили; это общий итог пропаганды за три последних года. Я помню себя на 9 Мая, давным-давно, школьницей – это необыкновенное чувство патриотического экстаза, когда ты нашел на параде старенького дедушку и подарил ему гвоздики, и еще через дорогу перевел. Казалось тогда, что ты соприкоснулся с чем-то исторически значимым. Так же и сегодня происходит со школьниками. У них нет альтернативы, другой картинки. Если семья пропутинская, провоенная, то человек в 12–13 лет не пойдет самостоятельно искать альтернативу в соцсетях. Кстати, у оппозиционных медиа и инициатив практически отсутствуют форматы для школьников, для молодежи. Есть, может быть, одна NITKA в тиктоке, еще есть издания "Докса" или "Гроза", но это, извините, уже для студентов-интеллектуалов, которые и так уже имеют доступ к разной информации. Все остальные, большие и малые оппозиционные медиа почти не сделали никаких форматов для подростков, для молодежи. Я считаю, что мы таким образом теряем одно или два поколения людей, просто не беря их во внимание. А российское государство очень хорошо понимает важность этого сегмента и работает с ним. Когда я рассказываю, например, про форум "Стальное кружево Урала", я делаю это не для того, чтобы поглумиться. Смотрите: мероприятие проходило в пятницу и субботу, два полных дня, на которые пришло шесть с половиной тысяч человек. Можно, допустим, насильно согнать две тысячи человек в пятницу. Но и в субботу люди приходили. Я видела публикации в частных инстаграмах посетителей, потому что когда-то проводила образовательные мероприятия в Челябинске, и у меня до сих пор остались контакты. Я смотрела отзывы; люди приходили семьями, с детьми, потому что была подобрана очень разнообразная программа. С одной стороны, там были воркшопы для детей по рисованию, мастер-классы. Большой образовательный блок; да, это традиционные ценности, но приехали какие-то важные психологи, чтобы рассказать, как жить в семье счастливо, как работать с подростками. Там, например, выступала женщина, у которой был титул "Веселый учитель года". То есть живой формат. С другой стороны, есть другое направление этого мероприятия, очень провоенное. Например, там была дискуссия "Вклад женщины в победу", и это не про Вторую мировую. На втором этаже была выставка портретов мобилизованных. Во многих домах культуры в разных городах популярны форматы показов мод, в которых участвуют жены и родственники мобилизованных. И да – у этих людей появляется особый статус в обществе. На этом форуме можно было плести маскировочные сети, делать окопные свечи, писать письма на фронт. Написать письмо – тоже акт гражданской активности. Цифра в шесть с половиной тысяч человек означает большую вовлеченность, включенность такого города, как Челябинск. И да: мы, как представители оппозиционных сил, не можем себе больше позволить игнорировать это…
– Пропаганда работает и побеждает. И нам полезно посмотреть правде в глаза.
Провоенное сообщество может быть за войну, но против путинской политики
– Да, причем мы ведь можем смотреть на нее с разных сторон. Например, чтобы найти там, в этом монолите, щель, чтобы перетаскивать оттуда людей на нашу сторону. С другой стороны, полезно задаться вопросом: с помощью каких методов государство добивается успеха? Мы можем также попытаться отыскать там какие-то критические массы, ибо даже провоенное сообщество может быть за войну, допустим, но против путинской политики. Потому что им тоже хочется ездить за границу и приглашать хороших инженеров из Европы. И напротив: наше вакуумное мышление, когда мы слышим только своих и "правильно мыслящих", лишает нас того единственного оружия, которое у нас есть, – слова. Мы ведь гражданские активисты, мы не пойдем даже с молотками на улицу. Поэтому мы должны знать, какими словами пользуется для работы с обществом российское государство. Нам кажется, что, если мы посмотрели Соловьева и еще пару пропагандистов, мы все уже знаем об этом "дне"; но на самом деле есть более тонкие материи, более тонкий вход. Например, у меня была программа в Челябинске по городскому активизму; некоторые из моих бывших участников этой программы являются сегодня соорганизаторами провоенного форума. Это люди, с которыми еще три года назад мы делали сообща проекты, которые были построены на демократических принципах. И вот сейчас они делают "Стальное кружево". Я много думала: где, в чем мы провалились и как так происходит, что те ценности, которые мы пытались донести, перестали быть важными? Это мы недоработали – или это у российского правительства лучше получилось?.. Но, возможно, там, на месте, все проще; в данный конкретный момент организаторы уловили запрос общества на сопричастность; плюс еще какие-то социальные гарантии, и даже какие-то лесенки карьерные. Мы должны все это изучать, иначе наше однобокое знание о том, "как надо", окажется бессмысленным.
– Да, но ведь прежнее чувство сопричастности строилось вокруг ценностей цивилизованной жизни, отрицания насилия, и уж, конечно, отрицания агрессии против другого государства. Если же эти ценности для большинства не устоялись или же их ценностная система настолько подвижна, что позволяет перескочить от гуманизма к милитаризму, как же мы можем сегодня этих людей переубедить?
– Мне кажется, что нужно продолжать предлагать им… форму для разговора. Нам кажется, что наши гуманистические ценности универсальны и "априори понятны", тем более что они вышли во многом из религии. Нам может казаться, что все это само собой разумеющееся. Но это не значит, что автоматически эти ценности сразу делают общество нашим союзником. В чем наша этическая, гуманитарная обязанность – тех, кто сегодня находится за пределами России, – продолжать диалог, разговор с этими людьми в разных контекстах. Оппозиционные медиа также должны, возможно, иногда менять язык описания современности; многие россияне, живущие в РФ, говорят, что сегодня не могут читать оппозиционные медиа, потому что там их либо хают, либо про ужасы рассказывают. Можно часто услышать: "Мы и так в тяжелом состоянии находимся, а тут еще вы добавляете, ничего про нашу жизнь не зная". Тут нужен более дифференцированный подход, повторю, и, наверное, иногда чуть-чуть более положительная перспектива – иначе, мне кажется, мы сами только увеличиваем разрыв. Вот за границей организуют митинги и марши, настаивая на том, что они за тех, кто остался в России, выйдут и будут громко говорить, но при этом не спрашивая их мнения. Или вот многие европейские институты отказываются приглашать людей из России под тем предлогом, что это для самих людей "опасно". Те, кто в России, резонно возражают: "Вы нас сначала спросите, опасно это для нас или нет; мы уже сами решим – но не лишайте нас субъектности и агентности". И, на самом деле, если спросить, то можно получить ответ: "Если вы готовы соблюдать правила безопасности, которыми мы поделимся, то мы будем рады приехать".
Нам вообще не важно быть в одной лодке, но важно плыть в одном направлении
…Оттого, что в Брюссель приедут десять человек, которые расскажут, как все устроено сейчас в России, ничего, конечно, не изменится. Но потом они вернутся обратно, расскажут, приедут новые. Мне иногда кажется, что нам не хватает диалога на уровне глаз, и вовсе не потому, что мы за границей такие высокомерные и все знаем лучше. Это происходят отчасти потому, что уехавшие сильно оторвались от России и не знают, с кем общаться; отчасти потому, что очень мало мостиков между политическим и гражданским сообществами. Эти мостики нужно усиливать, их нужно поддерживать. Когда ты живешь в опасной среде, но знаешь, что связан с другими, кто думает или действует так же, ты становишься более сильным. Я часто говорю: нам вообще не важно быть в одной лодке, но важно плыть в одном направлении к общей цели.
– Вы говорите – диалог; но как можно вести диалог, если оставшиеся лишены возможности назвать вещи своими именами, например войну – войной. Как только ты пытаешься это слово чем-то заменить, как замечал философ Николай Плотников, уже один этот запрет блокирует мышление, искажает картину мира. Как поддерживать диалог с людьми, которые лишены возможности выражать свои мысли?
– Диалог не значит объединение. Мне вообще претит это мифическое хороводное мышление. Потому что, будем честны, у всех у нас в эмиграции свои цели. У кого-то есть амбиции занять посты в будущем правительстве. Абсолютно легитимная цель, безоценочно. У кого-то демократические ценности и более равное общество – цель. И все мы движемся разными путями к своим целям. Для диалога не нужно иметь одно мнение – и даже находиться на одном коммуникационном уровне. Знаете, есть стратегия приспособления в качестве способа решения конфликтов; а есть другая стратегия – мирная трансформация конфликтов. Вот мы садимся за стол и всем угождаем, всех угощаем, "чтобы не было войны". Но это часто не работает. У мирной трансформации конфликтов более жесткая методика: мы реально конфронтируем с такими-то позициями, договариваемся с другой стороной, осознавая при этом, что ценности разные. Но тем самым мы выходим на другой уровень диалога.
Основная стратегия, благодаря которой активисты внутри России выживают сегодня, – это их невидимость
Мне тоже в 2022 году было тяжело и плохо оттого, что люди не говорили и не писали слово "война" или маскировали его звездочками. Сейчас я понимаю, что эти люди и в 2022 году были против войны, а к концу 2024-го они развернулись, расширили свои сообщества и действия. У них и антивоенное протестное искусство расцветает, они пытаются через какие-то вещи менять законодательство. Там есть включенность и взаимопомощь. И они уже начали масштабировать свой опыт на соседний город и даже на соседний регион. И я смотрю на это и думаю: да, это не один с нами язык, это по-прежнему язык умолчания; но их действия эффективны. И я это ценю сейчас. Мы говорим на одном языке, просто на разных уровнях. Я могу говорить на немецком уровня B1, а вы, допустим, на уровне C2. Но где-то мы все равно сойдемся и поймем друг друга. Этой схемой примерно сегодня описывается состояние гражданского общества в России и за рубежом. Основная стратегия, благодаря которой активисты внутри России выживают сегодня, – это их невидимость. Эта невидимость только и делает возможным продолжение и расширение их деятельности. Да, их сегодня слишком мало, чтобы выходить на площадь. И их выход будет означать, в конечном итоге, что у нас станет на десяток или на сотню политзаключенных больше. Чтобы что?.. Чтобы шантажировать Запад очередными обменами на убийц?.. То, что делают эти люди сегодня, – одних из которых я знаю лично, а о других узнала благодаря своим наблюдениям, – невидимо для большинства. Но их деятельность представляет сегодня такую же ценность, как и действия тех сильных и светлых личностей, которые не боятся говорить открыто.